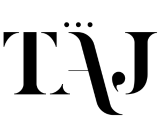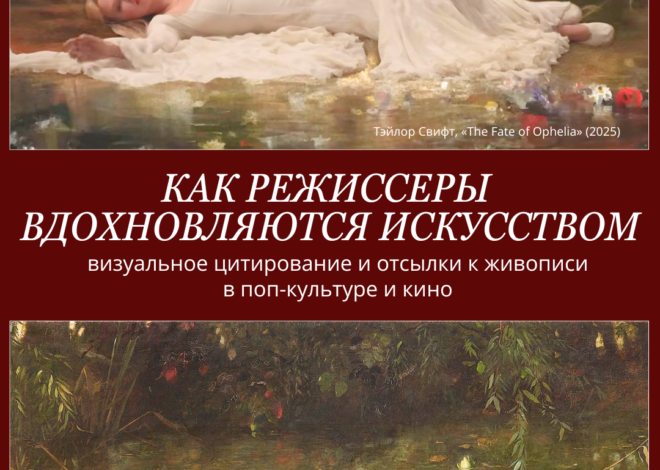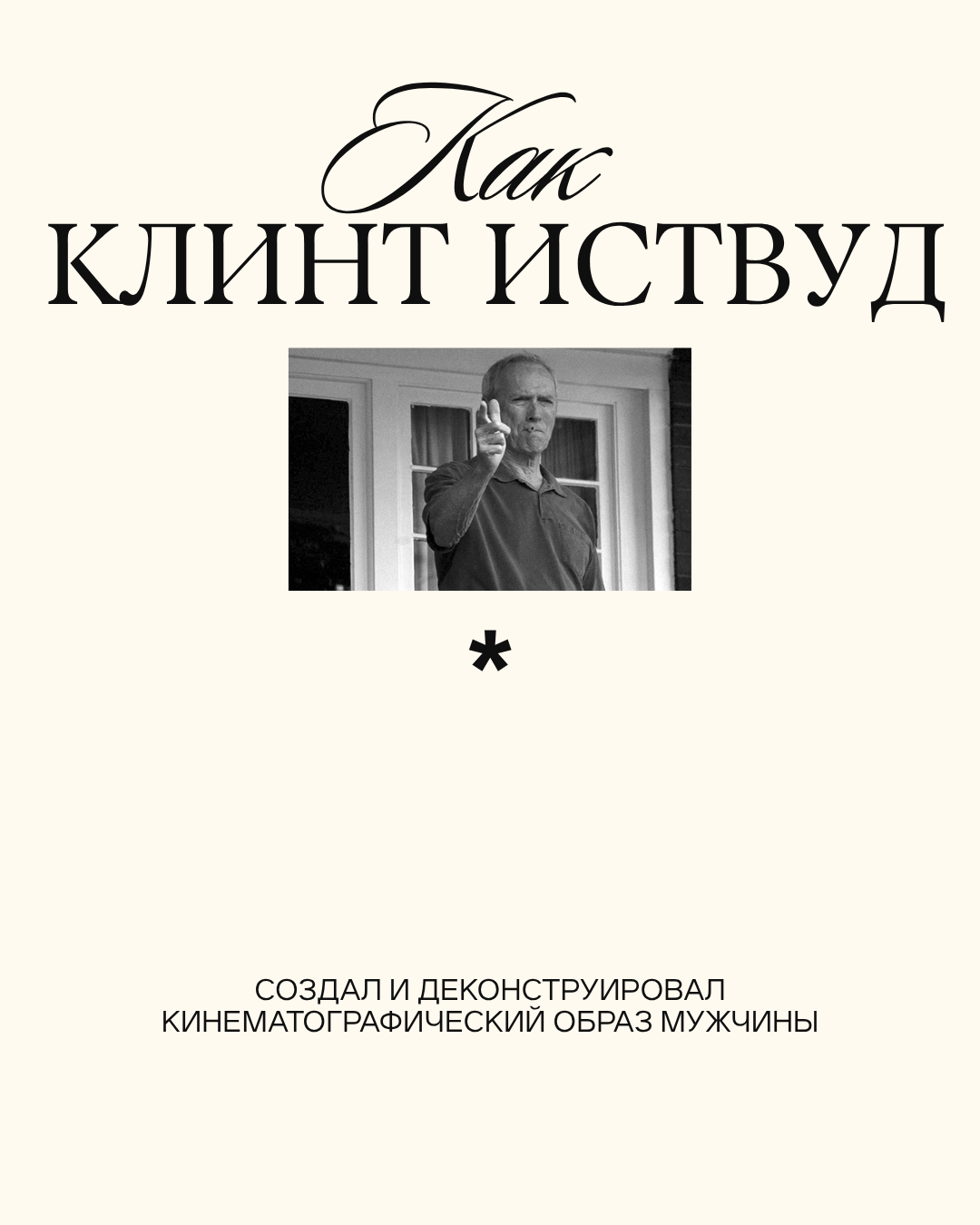
Как Клинт Иствуд создал и деконструировал кинематографический образ мужчины
Полицейский Гарри Калахан по прозвищу «Грязный Гарри», известный своей безжалостностью по отношению к преступникам и скепсисом по отношению к законам. Мстящий за свою семью, убитую армией Севера, Ветеран Гражданской Войны в США Джоси Уэйлс, презирающий новые порядок и закон Штатов. Молчаливый и загадочный «Человек без имени», руководствующийся мотивами, колеблющимися между корыстью и благородством.
Все эти образы, воплощенные на экране Клинтом Иствудом, представляют из себя образы канонических мужских, «брутальных» героев, давно став одними из самых ярких примеров образа мужчины в кино. Они объединены своей ярко выраженной маскулинностью, физической силой и харизмой, самоуверенностью и героичностью — и, во многом, сочетание всех данных качеств делает эти образы «иконическими». Однако, они объединены ещё и тем, что ставят свои собственные цели или идеалы выше общественных. Будь то Дикий Запад, который постепенно «цивилизуется» государством в «Джоси Уэйлсе», или уже цивилизованный Сан Франциско 70-х в «Грязном Гарри» и его продолжениях — всегда есть определённая цивилизация, установленный или ещё только устанавливающийся порядок, закон, с одной стороны, и есть тот, кто не подчиняется этому закону, следуя исключительно за своей волей и принципами. Вся цивилизация, со своеобразной, будто бы ницшеанской, точки зрения, как таковая представляется построенной на насилии, и устанавливающей свой порядок насильственно, лишь скрывая это за оболочкой закона. Так, например, в «Джоси Уэйлсе» вооруженный отряд северян под руководством капитана Террилла, совершавший военные преступления и убивший семью Джоси, без каких-либо препятствий становится частью регулярной армии США, и начинает служить новому закону победившего севера, преследуя уже Джоси за его «беззаконие».
Герои Иствуда воспринимают «справедливость» и закон с точки зрения «права сильного» — порядок устанавливается не наиболее морально превосходной силой, но той, что сильнее, группой людей, которая заставляет других «играть по их правилам». И его герои следуют за этими принципами, пусть и с более благородными целями — предотвратить насилие против слабых, таких, как невинные жертвы маньяка Скорпиона в
«Грязном Гарри», с помощью ответного насилия. «Справедливость», с их точки зрения, вершится «кулаками». Впрочем, это не обязательно «герой» в классическом понимании слова, скорее, «антигерой», который формирует к себе симпатию, даже не смотря на свои жестокие методы, ведь противостоит ещё более жестоким и антагонистичным силам — от серийных убийц до военных преступников. Персонажам Иствуда, в период 1960-х – 1970-х свойственно быть в равной степени циничными и героичными. Его герои, с одной стороны, имеют циничный взгляд на цивилизацию, видя за ней только попытку скрыть вечно бурлящий в обществе котёл насилия, который нужно контролировать «высшим слоям» общества ради своей выгоды, подкрепляя свою власть моральными оправданиями (и вновь вспоминается Ницше с его «Генеалогией морали» как возможный вдохновитель). С другой стороны, они же представляют себя теми, кто точно «знает, как правильно», кого нужно защищать, а в кого — стрелять, ведь «правильно» =/= законно, закон относителен, в отличие от правды, и закон иногда мешает “справедливости“
Визуальная составляющая подкрепляет идеологию, соединяет в себе идею и человека, формируя итоговый образ. Иствуд, в пончо и с пистолетом наготове, с фирменной ухмылкой, атлетическим телосложением, со взглядом, через который может проскальзывать равно и ирония с цинизмом «Грязного Гарри», и трагизм с жаждой мести Джоси Уэйлса, но всегда — с внешней невозмутимостью, несломленностью, с «брутальными», резковатыми чертами лица, с недрогнущей при выстреле рукой. Не только внешность, но и режиссёрский взгляд, выбирающий, как её отобразить на экране, играет роль. Вестерны Серджио Леоне, например, куда более поэтичны и монументальны по своей натуре, создавая из Человека без Имени больше миф, нежели человека, и не скрывая то, что тот не обязательно борется за правду и справедливость, может руководствоваться корыстными мотивами, даже при том, что никогда в действительности не сделает зло невинному человеку — у него образ остаётся менее идеологизированным. Работы же друга Иствуда Дона Сигела и, что важнее, ранние работы самого Иствуда, тоже представляют персонажа мифически, как миф о «старой — доброй» маскулинной справедливости, о праве кулака и «Силе Магнума», но, лишь, куда больше вставая на сторону своих персонажей в моральном плане.
Неудивительно, что такая идеология персонажей Иствуда, вкупе с привлекательным кинематографическим образом как таковым, повлекла за собой многочисленные дискуссии. Взгляды полицейского Гарри Калахана на правосудие и его одобрительный взгляд на самосуд были раскритикованы широкими слоями общества — от феминистских групп, протестовавших против идеологии фильма во время проведения церемонии «Оскар», до кинокритика Роджера Эберта, назвавшего моральную позицию фильма «фашистской». Режиссёр «Грязного Гарри» Дон Сигел отвергал обвинения, и отрицал политическую «заряженность» фильма, будучи человеком с левыми взглядами. Сам Клинт долгое время знаменит как один из главных голливудских консерваторов – впрочем, более «прогрессивного» толка, ведь его главный принцип – либертарианское «оставьте всех в покое» (как это называл он сам), принцип невмешательства государства в экономическую и социальную жизнь общества. В то же время сам Иствуд был, согласно его словам, «…слишком индивидуалистичен, чтобы быть правым или левым», что он перенёс и в свои работы как режиссёр, начав воспроизводить своё актёрское амплуа и с «закадровой» стороны. Однако в более сознательный и поздний период его режиссёрской карьеры, на авансцену вышли несколько иные, неожиданные образы.
Бывший бандит, убийца и алкоголик Уильям Мэнни, вышедший «на пенсию» и «исправившийся» после женитьбы, страдающий от совершенных им в прошлом действий. Разочарованный в жизни ветеран Корейской Войны Уолт Ковальски, брошенный своими сыновьями, и вынужденный превозмогать внутренний расизм, живя в районе, населённом азиатами и темнокожими. Находящийся в финансовом кризисе и в разладе со своей семьёй садовод и ветеран Эрл Стоун, ради заработка работающий наркокурьером на мексиканский картель.
Все эти образы, наравне с многими другими работами — от «Совершенного мира» до «Малышки на миллион», так же были воплощены на экране Клинтом Иствудом — в его собственных режиссёрских работах, начиная с 1990-х годов. Иствуд, научившись, как режиссёр, манипулировать образами более эффективно, одновременно и продолжает, и отрицает, и переосмысляет пути и взгляды своих персонажей из прошлых десятилетий.
О Уильяме Мэнни из «Непрощенного» слагают легенды — о его меткости, о его силе и неустрашимости, и, волей-волей, вспоминаются Джоси Уэйлс, «Человек без имени», «Незнакомец». Однако Иствуд, теперь уже как режиссёр, меняет оптику и взгляд на самого себя. Вместо отважного, неуловимого стрелка — одиночки нам предстаёт копающийся в грязи на своей ферме старик, мучимый виной и страдающий по скончавшейся, «исправившей» его жене. Мэнни был алкоголиком, не стеснялся грабить, убивать женщин и детей. «Мифическая оболочка», ореол больше не действуют — но не из-за того, что изменился персонаж, ведь Уильям Мэнни — это, грубо говоря, условный постаревший архетипичный ковбой из прошлых работ Иствуда, но из-за того, что изменился сам режиссёрский взгляд Иствуда на проблематику правосудия и справедливости. Мэнни отправляется в далёкий путь, чтобы застрелить бандитов, изувечивших одну женщину в борделе и избежавших наказания благодаря коррумпированности местного шерифа, который лучше будет держать свой город в «железной руке» спокойствия и порядка, чем действительно наказывать преступников. Но каждое убийство теперь совершается с тяжестью, а на месте безликих врагов из экшен — фильмов оказываются крайне нелицеприятные личности, но — в первую очередь, люди, которые боятся умирать.
Общие представления о насильственности власти и цивилизации у Иствуда не изменились, но теперь, вместо представления о том, что цивилизация сдерживает мужчину, вигиланта, «мстителя» от справедливости, приходит твёрдый скепсис со стороны Иствуда не только по отношению к государству и закону, но и по отношению к человеку как таковому — насилие государства в его поздних работах, в частности, в «Непрощенном», сдерживает лишь другое насилие. Одно насилие ничем не лучше другого. «Заслужил или нет — неважно» — вот что теперь говорит бывший стрелок, не прячась за маской «справедливости». Уйдя за территорию формального права, за территорию закона, вся ответственность в поздних работах Иствуда лежит исключительно на индивидуальном человеке, который теперь уже не так безошибочен в своём внутреннем моральном компассе.
И действительно, вся героизация персонажей из его прошлых работ строится не на поступках, которые они совершают, а во взгляде на них. Убийство «плохих парней» может совершаться под героическую музыку, с ухмылкой, быстро и эффектно, но, если посмотреть на ситуацию с другой стороны — мы увидим обыкновенное, жестокое, убийство, которое скорее бы вызывало у людей только лишь отвращение, если бы не эффект экранного приукрашивания, «Магии кино», которая может быть как благотворной, так и разрушительной. И Иствуд совершает подобный деконструкционистский приём, переосмысляя свои предыдущие образы и интенции с гуманистической перспективы — несмотря на «легендарность» своего визуального образа в поздних работах, на «монументальность», которую источает самое его тело и взгляд, подхватываемые, в частности, ракурсами с нижней точки, «снизу вверх», по драматургической сути вместо мифического образа нам предстаёт демифологизированный образ человека, который, в отсутствие или бездействие закона, должен «взять ситуацию в свои руки» — и это уже не так просто, как было с «Грязным Гарри», ведь теперь есть риск поступить «неправильно», и на первое место выходят моральные дилеммы персонажей, часто провоцируемые чувством вины за своё прошлое.
Какой вывод из этого делает Иствуд? Чтобы это понять, стоит приглядеться и к другим его поздним работам. И если «Непрощённый» веет духом смерти и носит элегический характер по отношению и к образу Иствуда, и к жанру вестерна, то последующие работы открывают новое, более позитивное пространство. Так, в «Гран Торино», Уолт Ковальски, однажды убивший сдававшегося в плен солдата на Корейской Войне, вступает в конфликт с криминальной группировкой, защищая своего соседа, хмонга Тао. Однако, он сознательно отказывается от применения насилия в концовке — и идёт безоружным на конфликт с преступниками, только для того, чтобы своей смертью привлечь внимание полиции. А в конце «Наркокурьера» — одной из последних актёрских работ Иствуда, главный персонаж, Эрл Стоун, представая в суде за перевозку наркотиков, чётко и ясно произносит — «Виновен». Ведь, даже совершение преступления «ради семьи» не снимает с него ответственности.
Иствуд, таким образом, представляет образ маскулинного персонажа совершенно с другой точки зрения — не как самоуверенного вершителя правосудия, сдерживаемого законом, но как человека, способного или неспособного принять ответственность за свои поступки, руководствуясь не трансцендентными нормами закона и порядка, но личным моральным законом. И эта тематика, в дальнейшем, проникает и в другие режиссёрские работы Иствуда, без его участия как актёра — от «Таинственной реки», где самосуд и маскулинная справедливость предстают со своей самой токсичной стороны, «наказывая» невинного человека, до «Присяжного номер два», слоган которого однозначно гласит — «Правосудие слепо. Вина видит всё».
Клинт Иствуд, даже оставаясь консерватором по идеологии, в своей сути, в своих режиссёрских работах приходит к тому, что противостоит «мачизму», токсичному и самоуверенному превосходству мужчины в пользу образов более самосознательных, сочувственных персонажей. Ведь действовать согласно своей воле — недостаточно, нужно уметь отвечать за свои поступки, и в этом Иствуд находит главную силу, антитезу прошлому и смысл своего «обновленного» образа.
Автор: Евгений Кондров