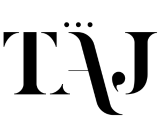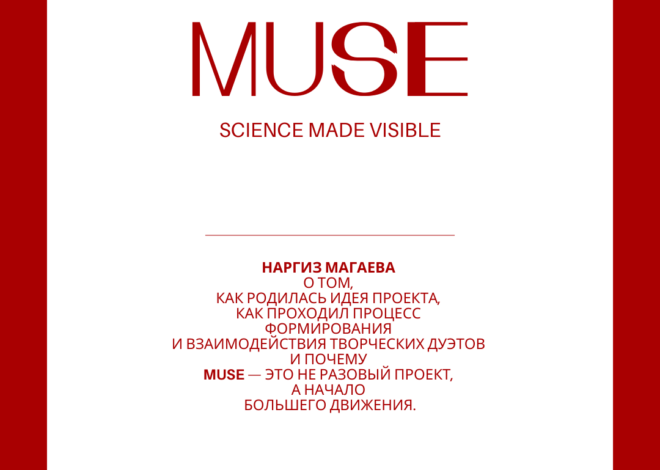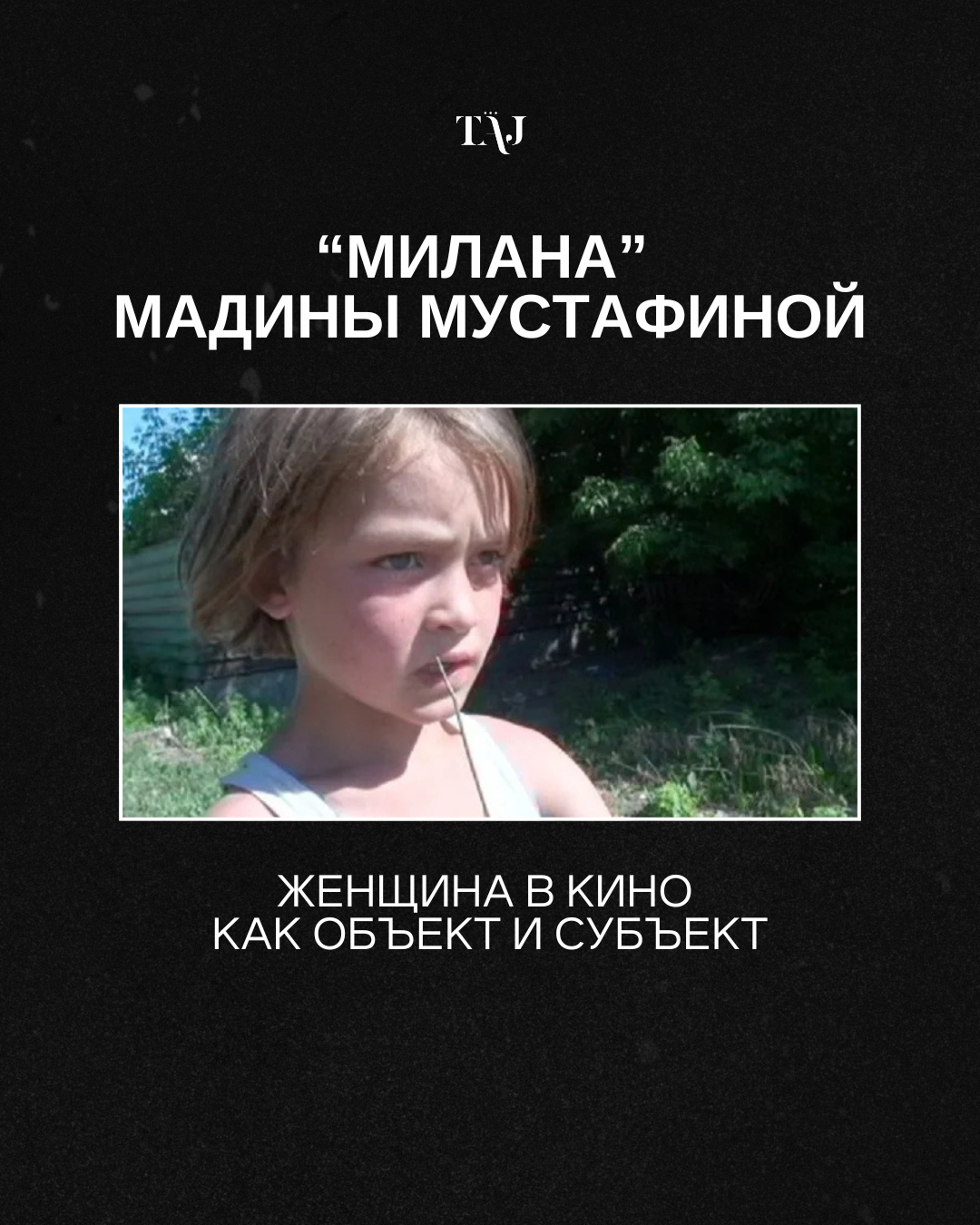
«Милана» Мадины Мустафиной: женщина в кино как объект и субъект
Маленькая 7-летняя девочка, Милана, ведёт свою подругу в гости — та гадает, живёт ли семья в квартире, или в коттедже, но, вскоре, оказывается, что семья живёт в шалаше в кустах, с вечно пьющими матерью и отцом. Милана беззаботно бегает по округе и играется с собаками. Её мать и отец дерутся между собой, а она иногда пытается их разнять, время от времени занимая чью-то сторону в перепалках. За всем этим наблюдает камера Мадины Мустафиной…
…наблюдает будто бы отстранённо, «нейтрально», не вмешиваясь настолько, что действующие лица, даже в моменты максимального напряжения, не обращают на неё внимания.
Однако, намерение сделать в этой работе присутствие человека за камерой незаметным оборачивается скорее эффектом погружения — «нейтральная точка» исчезает, а камера, вместо орудия отстранённого взгляда режиссёрки, начинает следовать за самой Миланой. И действительно, в фильме отсутствуют сцены, где бы камера («киноглаз») покидала бы главную героиню. Более того, камера всегда смотрит на мир «наравне» с Миланой, никогда не занимая точку зрения выше или ниже её роста, никогда не отдаляясь от неё на масштабные, общие планы. Операторская работа, таким образом, становится проводником точки зрения именно главной героини — Миланы.
Опираясь на эту точку зрения, можно достаточно явно уловить своеобразное «многомирие», четыре кинематографических пространства — условные «мир взрослых» и «мир детей», а также — «мир мужчин» и «мир женщин». В чём они выражаются? В «мире взрослых» мы находимся тогда, когда наблюдаем непосредственные отношения в семье главной героини, а также друзей этой семьи, которые регулярно приходят к ним в шалаш. «Мир детей» включает в себя мировосприятие лично Миланы — мы, фактически, наблюдаем «мир взрослых» именно через призму взгляда ребёнка, благодаря вышеуказанным визуальным приёмам, но в такие моменты Милана скорее взаимодействует с «миром взрослых», и два «мира» соприкасаются. Что касается «детского мира» самой Миланы, то он присутствует в тех моментах, когда Милана остаётся одна. Сугубо «детский» мир — мир, куда более приближенный к природе, куда более открытый к взаимодействию, фактически, своеобразная альтернатива жестокому, авторитарному и абсурдному в своих правилах миру взрослых. Большую часть времени мы видим, как эти два «мира» соприкасаются, и «мир взрослых» явно пытается отнять определённую телесную свободу у другого: мать бьёт дочь, ограничивает её в перемещениях и отчитывает за «нечистоплотность» и грязную одежду (учитывая то, в каких условиях живёт семья, это, несомненно, самая абсурдная претензия). К тому же, в «мире взрослых» всё чётко поделено на социальные роли и пространства: мать, отец и сама Милана, будучи относительно оторванными от цивилизации, находятся исключительно в рамках своих социальных конструктов, ролей семейной пары и ребёнка, а сам шалаш называется «домом». Да, буквальным домом его назвать трудно, но это то пространство, где свобода перемещения и взаимодействия с окружающим миром Миланы ограничивается в угоду маленькому семейному условному социальному порядку, в котором девочка играет роль «дочери» и вынуждена слушаться родителей.
В «мире детей» же Милана, фактически, существует в слиянии с окружающим миром, или, по крайней мере, в состоянии равенства и относительной непосредственности. Другими словами, он делится на мир до Закона, до какого-либо символического порядка, и на мир, где Закон и образ, определяемый символическим порядком, уже есть, на «до-символическое» и «символическое».
Проведя подобное различие, невольно возникает вопрос, какую роль в этом всём играет «мужское» и «женское», половые различия? Дело в том, что данное различие фундаментально вводит Милану в порядок символических социальных ролей — в этот самый «мир взрослых», где она уже дочь, у которой есть мать и отец, подчиняющиеся порядку. В фильме есть несколько ключевых сцен, объясняющих это различие: первая из них в самом начале фильма, когда Милана отдаёт своей подруге более благополучного социального положения свою куклу: «матерится, курит», «волосы не расчёсывает», «в карты проигрывает» ‒ в шутку говорят о кукле отец и мать Миланы, но в этой шутке видно, как они представляют себе образ женщины, как они приписывают женщине определённые нормы, ограничения, которым даже сама мать семейства не следует (она, как минимум, регулярно пьёт), но которым она хотела бы, чтобы следовала Милана.
Вторая сцена, когда Милана и её мать одевают одну из их собак в женский купальник и красят ей ногти, шутя, что она, якобы, «лежит на пляже». И мать, и отец Миланы в обоих случаях видят женщину в крайне стереотипном свете. Очевидно, кукла и собака выступают здесь как прообразы человека, семья, фактически, проецирует свои нормы в равной степени и на неживую куклу, и на животное, и на живого человека — Милану, будто показывая, что они фактически не видят разницы между животным, игрушкой и человеком, ведь всех их легко насильно «подогнать» под требуемый социальный образ, и кукла с собакой здесь выступают просто как проекции стереотипов. Следующей проекцией и их воплощением станет уже сама Милана.
Пусть в этой статье я и не рассматриваю фильм с чистой психоаналитической точки зрения, но полезным будет отметить, что и куклу, и собаку, в данных сценах, можно назвать фигурами «Сверх-Я», которое постепенно будет передано Милане, действуя, по Лакану, как «Функция Идеала Я, усвоение субъектом определенного сексуального типа или образца — образца включенного в более широкую экономию, которая может носить социальный характер».
Следом Милана будет распространять насилие уже сама — ближе к концу фильма она перестаёт быть «невинной» и вполне готова издеваться над захваченной птицей или над той же собакой. Женщина, в данном случае, предстаёт не как тот человек, который сам создаёт свой образ и определяет саму себя, но как та, кого определяют. Стереотипные атрибуты женщины, используя эти символы, «знаки женщины», осуществляется власть родителей над Миланой. При этом, сама мать Миланы, будучи женщиной, вполне готова потакать данным знакам, даже культивировать их, ведь они помогают ей как-то держать дочь под контролем, а заодно и «обустраивать» окружающий мир в рамках небольшой семейной системы. Как минимум, ради целей банального выживания, как максимум — ради того, чтобы в будущем у неё появилась опора в лице дочери, которая будет похожа на неё, будет помогать ей бороться с одиночеством и заниматься хозяйством. Т.е. в целом, ради сохранения маленького, традиционного общества семьи как такового…
Проще говоря, девочка «вырывается» из своего свободного, «детского» взаимодействия с окружающим миром и ставится на службу самоподдержания института семьи, воспроизводства семьи с помощью насилия и принуждения. Семья — это то, что включает женщину в социальный обмен, и, одновременно, то, что делает женщину заложницей её образа, то, что определяет её против её же воли.
Какую роль в этом всём играет «мужское» в лице отца и «друзей семьи»? Дело в том, что, в ситуации Миланы мужчина не выполняет той главенствующей роли, которую на него возлагает традиционная патриархальная семья, мы не видим его чёткого главенства. Например, в сцене, когда семья собирает металл на сдачу, мать участвует в этом довольно тяжёлом труде наравне с отцом. Но, точно так же она, вместе с отцом, участвует в вышеописанном подавлении дочери, приписывании ей нужных внешних характеристик — будто бы «мужское», точнее, «патриархальное», в данном случае распространяется не только через отца, но и через мать, которая занимает крепкое место в структуре подчинения. Отец же чувствует себя в семье наиболее «нормально», ему пусть и совсем немного, но комфортно в этих обстоятельствах. Мать же, несмотря на всю репрессивность её фигуры, всё же при этом весьма трагична как человек, вплоть до попытки суицида, пусть такие попытки в этой семье никогда и не доходят до конца, как рассказывала сама Мадина Мустафина в интервью. От отца исходит насилие, но само оно в целом рассредоточено. Патриархальное выступает как структура власти, а не как конкретное насилие одного человека. Можно сказать, что это своеобразный символический Отец, не обязательно сопряжённый с реальной фигурой, но который является источником власти.
Возвращаясь к «нейтральной оптике» Мадины Мустафиной, ‒ оптика эта скорее нейтральна в том плане, что в ней нет крупной фигуры Автора, той фигуры, которая бы насильно вмешивалась в процесс зрительского восприятия и указывала бы тому, «как» он должен себя чувствовать. Сама Мадина в фильме практически не присутствует как какая-либо смысловая фигура. Но, как ранее было сказано, «нейтральность» устраняется, когда камера становится уже орудием «взгляда» самой Миланы. В фильме не представлен взгляд режиссёрки, а представлен взгляд Миланы, которая могла бы быть «объектом исследования» документалистики, но стала «субъектом действия», двигателем фильмического восприятия, которая может «говорить» сама за себя, без чьей-то сторонней помощи. Следовательно, и главной целью фильма становится будто бы не просто показ механизма того, как постепенно маленькая девочка определяется стереотипами женщины, но и сама кинематографическая деконструкция «образа женщины» как такового. Описанные ранее сцены с собакой и куклой наглядно демонстрируют не только то, как создаётся образ женщины в жизни, но и то, как он переносится в кино. Ведь с легкостью можно сделать из женщины привлекательный объект, просто надев на неё купальник и накрасив ногти, вот только за красивым образом скрывается принуждение и восприятие женщины как чего-то «пассивного». Но, мы видим это именно с «активной» позиции субъекта, что помогает разрушить кинематографический патриархальный образ как таковой, мы смотрим с позиции Миланы, незадолго до того, как этот самый символический порядок, Закон, осуществляется, смотрим из пока ещё не до конца определённого и «названого» мира. А, значит, видим и некую другую, альтернативную точку зрения, которая, дав голос маленькой девочке, невольно указывает на то, что символические значения, образы, можно строить и по-другому, иным, не авторитарным путём; можно смотреть на подавляющие образы с другой стороны, для того, чтобы понять всю их репрессивность как в пределах пространства кино, так и в пределах пространства социума. С помощью «киновзгляда» с позиций «мира детского» или «мира женского», несомненно, оказывается возможным разрушить главенствующие образы и, потенциально, создать новые.
Автор: Евгений Кондров