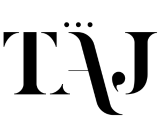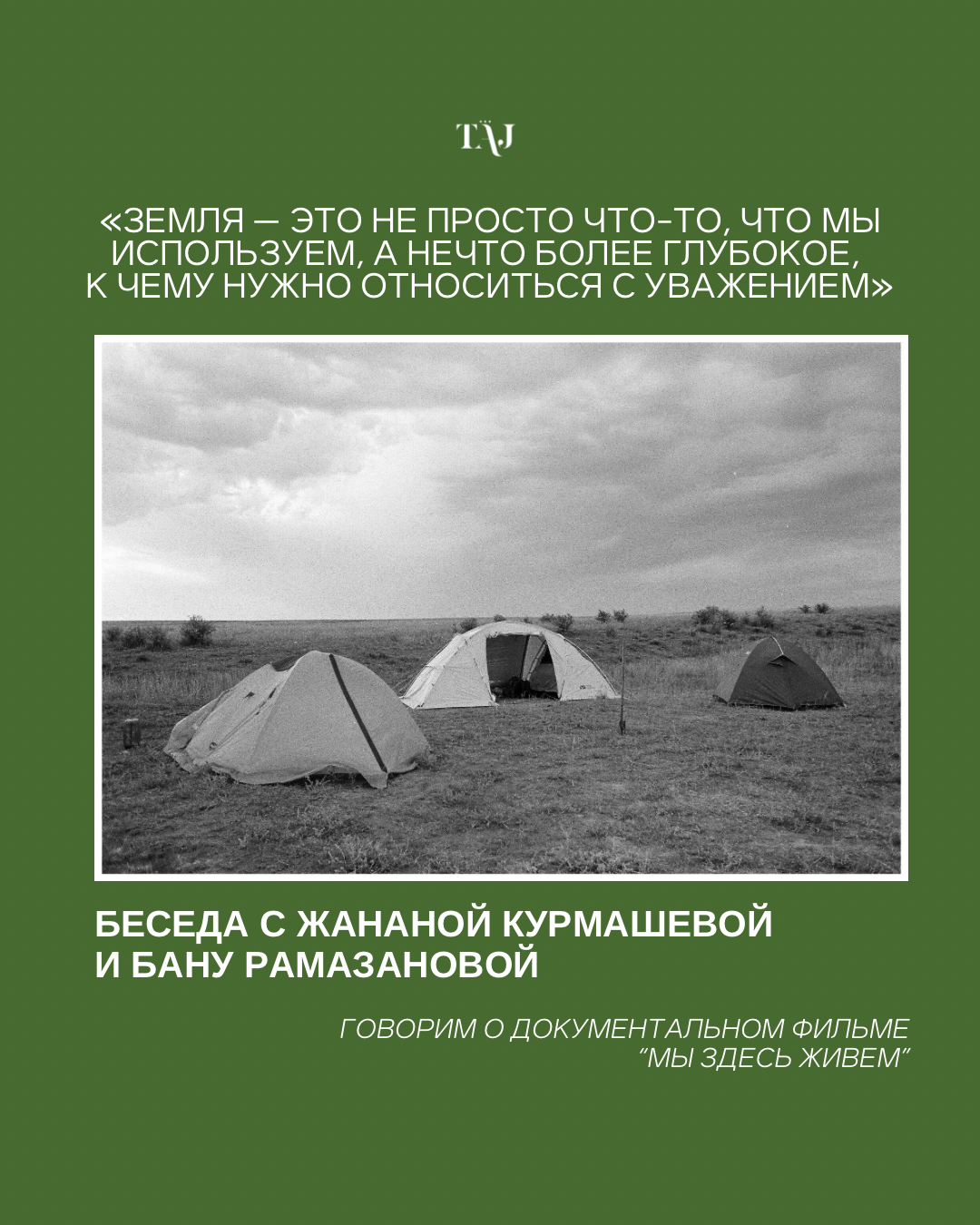
Об уязвимости и надежде: документальный фильм «Мы здесь живем»
Формат интервью (хотя я в большей степени предпочитаю беседа) – это лучшая фиксация и документация состояний (внутренних — своих и собеседника) и времени, без лишней интерпретации. Когда я увидела финальный вариант документального фильма, о котором дальше пойдет речь, я заплакала. Настолько больно было смотреть эту картину о долгом эхо полигона Семея. Наверное, потому, что сама я из Павлодара, а нас проблемы экологии еще как касаются. Абайская и Павлодарская области соседние не только географически, но и экологически. Но ещё потому что важным становится это всё и с началом материнства. Потому задумываешься глубиннее о том, что ты оставишь своему ребенку: в каком состоянии будет твоя страна, общество в ней, планета.
Документальный фильм Жананы Курмашевой «Мы здесь живем» не просто рассказывает, а погружает в современное состояние жизни людей, проживающих на территории Абайской области, а мы назовем это может утрированно-обобщенно, но точно — у зоны Полигона. Это не тот тип “документальных фильмов”, которые вы встретите либо в формате устаревшего телевидения, либо новомодного подкастоведения. Это то, за что мы, поклонники документального кино, любим и болеем — в этом фильме есть сама природа кино. Он сделан без изощрения, но изысканно, просто, но действенно. И с полной надеждой на его выход на какие-либо экраны к зрителю, мы встретились с поговорить о нем, и о многом другом с режиссером Жананой Курмашевой и продюсером Бану Рамазановой.
Александра Поршнева: Может быть, мои вопросы прозвучат для вас банально, и я прошу у вас, Жанана и Бану за это прощения. Но нам всем, зрителям и читателям, важно услышать ответы на них, зафиксировать их. Мне кажется очень важным эти ответы и мысли передать читателям, чтобы подготовить их к тому (и я на это очень надеюсь), что они смогут увидеть ваш фильм. Навряд ли это будет широкий кинопрокат (мы понимаем реалии нашей индустрии). Но, эти встречи вполне могут быть в рамках стрим-релизов, или просмотровых фестивалей, спецпоказов, — как бы это ни случилось, оно было бы важно.
Очень деликатная форма фильма просто и насколько возможно бережно преподносит тему полигона и экологии зрителю, при том, обеспечивая такое колоссальное чувство страха, от которого тебе хочется действовать, что-то изменить. Это не такой страх, который тебя сковывает, абсолютно обезоруживает и давит. Это то, что побуждает тебя что-то делать, и, безусловно, говорить о том, что надо бы уж что-то стараться менять в отношении к экологии и в собственном отношении к ней.
Мне нравится, как название фильма звучит на казахском языке – «Атамекен». Оно, как мне кажется, здорово перекликается с кинематографической историей Казахстана (мы все помним фильм Шакена Айманова «Атамекен»). Через это название происходит хороший срез проблематики и тематики. И с другой стороны, это название совершенно четко обозначает, где мы находимся, что это всё – единая наша земля, и на самом деле вне зависимости от региона, – это наше место жительства.
Говоря о идее и теме, расскажи, Жанана, о том, как случилась твоя встреча с темой полигона, и как ты с ней жила?
Жанана Курмашева: В 2021 году я написала цикл фильмов под названием «Я здесь». Мы подали его на конкурс «Internews», я тогда работала с другим продюсером. Идея заключалась в том, что я хотела поехать в такие отдаленные точки Казахстана, где случились трагедии, катастрофы экологического, исторического характера. Например, КарЛаг и в том числе Семей. В итоге, мы поехали туда, у нас было всего два дня. Всегда снимали какой-то репортаж, но мне этого было достаточно, чтобы понять вообще какой-то чудовищный абсурд этой ситуации, потому что я, если честно, была поражена гражданским безразличием к этой проблеме. Как случилось так, что свои же, казахи, к своим же родным так относятся? Меня эта мысль, как будто боль, пронзила. Я просто обомлела, я даже сказала: “Да какого … вы вообще так друг с другом обращаетесь? Почему вы можете себе позволить, что люди где-то там живут, и они вообще никому не нужны, они сами себе предоставлены?” Меня это сильно возмутило. И в том числе, меня возмутила и наша гражданская индифферентность. Например, если бы я туда не приехала, я бы тоже жила спокойно, и даже не знала, что вот так вообще-то, оказывается, люди сами там по себе где-то живут, вообще никому они не сдались. В общем, это первое.
Второе, и то, что меня там ещё пронзило. Я была в некоторых точках Земли, хоть и не сказать, что много где: и в Казахстане, и в мире. Но ни в какой другой точке мира я не ощущала такого чувства. А оно было очень странное. Я даже назвала бы это спектром чувств. В тот момент, мы ехали на какую-то зимовку, которая находится посреди полигона, и был просто захватывающе красивый закат. Настолько красивый, что после этих всех рассказов о том, что на этой земле было, я подумала, что я вижу эту бедную землю, и знаю сколько пережила она. Да, она сухая, и хочется ее как-то пожалеть. А потом, когда я увидела этот закат, я подумала: “Да она еще нас всех переживет!” И как мы жалки в своих попытках завоевать эту землю, бороться со стихией! Я тогда, как мне кажется, поняла одну из причин, почему люди оттуда не уезжают. Нам конечно понятно, что для них это атамекен — родная земля. Но это потому что единственное место, которое знает, что эти люди пережили. Они вместе это пережили, они вместе через это прошли, и эта земля продолжает их поддерживать своей величественностью. Они просто нигде в другом месте этого не найдут, кроме этой земли. После, утром я встала пораньше, хотела рассвет снять или что-то подобное. Это было очень рано, и была сумрачная погода, какая-то атмосфера пустоты и тишины. Смотрю — лежат коровы большие, и так пристально смотрят на меня. Это был пронзительный взгляд, от которого меня даже немного покоробило. Потом они начали прямо смотреть и медленно-медленно жевать. Это было словно какая-то медитация, и одновременно будто и страх закрадывается… Потом в один момент начали чирикать птички. И прыгать, прыгать… Я вдруг подумала, что они единственное живое здесь. Все остальное как будто бы живет, но на самом деле живут только они. И мне кажется, они чирикают для того, чтобы самим поверить в то, что они все еще живы. Понимаешь? “Жизнь все еще есть, она продолжается, все нормально”, — что-то типа такого они могли бы сказать для того, чтобы самим не провалиться в этот непонятный сон. Весь спектр эмоций, мыслей, возмущения, гнева и любви к земле — все-все-все это во мне перемешалось. Я с этим уехала. Я поняла, что оно осталось во мне.
Прошло какое-то время. Я начала вспоминать детство. Бану, помнишь в заявке у меня это было? Мне мама тогда говорила: “Никому не говори, что я родилась близ Кайнара (где были взрывы, где обнаружили синдром Кайнара). Никому не надо говорить. Особенно, когда ты будешь встречаться с потенциальными женихами”. Мол, мы считаемся больными. И когда я беседовала с местными жителями, они тоже говорили о том, что есть некая стигматизация: на них висит клеймо, и куда бы они ни приехали, если они говорят, что они из Семипалатинска, то их начинают сторониться, думать, что они какие-то больные. Так я столкнулась с этой темой, и не смогла ее оставить. Бану знает, что я эту тему хотела сделать даже немного абсурдной. В том числе, я рассматривала жанр расследования. И на это меня подталкивал ресерч темы и найденные исторические конфликты. То есть жанровых воплощений темы могло быть много. Потом я поняла, что я не про конфликт, а про что-то другое. Мне и команда помогала, Бану предлагала какие-то вещи. Также, я принимала участие в сценарной лаборатории. И в итоге, спустя столько времени, все у меня по полочкам разложилось. Мы решили, что именно так эта история и должна строиться.
А.П.: Это очень интересный момент, касающийся выбранной формы, и даже, пожалуй, жанра. Я думаю, что Бану совершенно точно могла бы сказать, что, возможно, если бы это было расследование, это было бы более комфортно для работы с резонансом и импактом. Рассуждения, фиксации, не погруженные в чрезмерную эмоциональность, скорее фиксации реальности и тех ощущений, о которых ты говоришь: ощущений людей, твоих ощущений, этого пространства, которое кажется почти сюрреальным… Я помню, как на «Vosmerka.kz» ты говорила о магическом реализме, о том, что это буквально что-то потустороннее, почти мистическое. И, конечно, это отсылает, наверное, к “Солярису”, к “Сталкеру”, к этой зоне, визуально — к этому ощущению.
Но вот эта градация чувств, то, как через красоту, потому что кадры действительно невероятно красивые, и созерцание — даже в некотором смысле красоты, такой замершей, застывшей, которая удерживает ужас. С одной стороны, она передаёт просто действительность, состояние. С другой стороны, она фиксирует твои ощущения. Мне интересно, как тебе удалось найти этот баланс? Ты же говоришь, что это больно. И я вспоминаю слова мастера — Владимира Викторовича Тюлькина, который всегда говорит, что любое проживание темы — это боль. Как тебе удалось зафиксировать этот баланс?
Ж.К.: Я не знаю, как это удалось. Я не делала ничего специально, чтобы достичь именно такого результата. Мне кажется, я не думала о балансе. Я просто чувствовала что-то и шла в ту сторону. Хотя, если честно, чувств там было столько, что словами не передать, и были какие-то ещё более глубокие слои. Этот фильм, мне кажется, действительно оказался в нужном времени, и мне кажется, что три года работы — это был правильный срок. Если бы я начала снимать раньше, он бы не был таким. Может, он не был бы достаточно «чувствительным», или я бы упустила какие-то важные моменты.
А благодаря тому, что мы действительно долго работали — сколько раз я туда ездила, сколько времени мы потратили на исследование, на приближение к этим людям и, конечно, на отдаление тоже — всё это, наверное, сделало фильм таким, какой он есть. И не скажу, что было легко, потому что, на самом деле, с такими людьми очень непросто. Это такие моменты, когда нужно немного поднажать, но не передавить. Потому что я прекрасно понимаю, в каком моральном состоянии они находятся. Это очень трудно, и у них постоянно эти эмоциональные «качели». Они, с одной стороны, на грани срыва, переживая за состояние своей дочери, и отказываются показывать её лицо, а с другой стороны, понимают, что если мы не покажем этого, если не позволим ей быть частью истории, то как мы можем решить эту проблему? Как мы можем передать всю глубину того, что происходит, если не подведем её немного поближе, если не откроем этот процесс?
Я всегда чувствовала это напряжение, что им тяжело, и, честно говоря, иногда мне было действительно трудно. Даже возникала мысль: может быть, нам стоит найти другую семью, чтобы передать это по-другому. Но при этом, я точно знала, что, несмотря на всё уважение, мы не должны манипулировать зрителем, и показывать на экране людей, у которых есть явные физические отклонения, — результаты всех этих воздействий. Я понимала, что это — совершенно не то, чего я хочу.
Так что насчет баланса я, наверное, не смогу ответить. Я просто шла туда, куда вела интуиция.
А.П.: И еще это достаточное количество времени для создания фильма.
Ж.К.: Да, я думаю. Достаточный срок работы.
А.П.: У меня есть важный вопрос, потому что, как мне кажется, это всегда довольно деликатная тема, когда речь идет о документальном кино. И, особенно, в контексте фильма, который для меня лично является интересной почвой для размышлений о том, где начинается creative documentary. И вообще, насколько документальное кино может быть/не быть креативным. Я постоянно кручу эту мысль у себя в голове. Так вот, когда вы начали работать над съемками, был ли изначально настрой на создание визуально эстетичных кадров? Потому что, как видно, кадры действительно очень красивые. Это была режиссерская предустановка, или это был процесс, в ходе которого вы вычленяли самые яркие моменты из того, что сняли? То есть, это было заранее продумано или снималось по ходу действия, в зависимости от ситуации?
Ж.К.: Вспоминаю, как отправляла заявку Бану. В этой заявке уже были элементы, которые я очень хотела реализовать с художественной точки зрения. Я думала о покрывале, зеркале, отражении — таких символах, которые могли бы передать идею отраженности. Эта художественная составляющая была для меня важной, и я уже тогда понимала, что обязательно интегрирую ее в фильм.
Но, конечно, я не могу не отметить, как удачно подобралась команда. В качестве оператора Бану предложила Куаныша Курманбаева, и я сразу же вцепилась в Айдан Серик, как монтажера. Это оказалось отличной связкой, потому что и он, и она — оба очень деликатные люди. Я, конечно, не уверена, насколько сама я деликатна, но они привнесли в мою работу именно ту тонкость, которая сделала атмосферу фильма какой-то особенной. Куаныш действительно особенный. Что мне в нём нравится, так это его молчание. Он почти не говорит, и, возможно, это как раз то, что мне нужно, потому что я говорю много. Мы встречаемся, и иногда он вообще не отвечает на мои вопросы, но я вижу, как он обдумывает то, что я говорю. И это удивительно. Когда я прошу его что-то посмотреть, он всегда уточняет: «Что ты имела в виду, когда говорила вот это?» И тогда мы начинаем обсуждать, что я хотела донести. Это действительно здорово.
Но самое главное, что он сделал — он понял, что я чувствую. Он просто уловил это. Его восприятия оказалось достаточно, чтобы понять, что я чувствую, и при этом он добавил своё видение. Вот это и есть то, что так важно: когда твоя команда настолько опытная, начитанная, насмотренная, чувствительная, что она не просто воспринимает твою идею, но и привносит что-то от себя.
Как документалист, я часто боюсь упустить важные моменты, всегда нахожусь “на шухере”, стараюсь не пропустить детали, которые могут быть значимыми. А Куаныш — человек игрового кино, с фокусом на красивое, медленное, эстетическое. Я же всегда думаю: «Нужно не упустить, не пропустить!» Но он как будто уравновешивал это. Он снимал так, как нужно, не спешил, не делал съемку ради съемки, а осмысленно, вдумчиво. Это было здорово.
С Айдан произошло то же самое. Я говорю ей, что эта сцена для меня важна, но понимаю, что сама, наверное, не смогла бы смонтировать её так, как она это сделала. Я бы, возможно, смонтировала её очень буквально, как есть, без лишних задумок, прямо, без дополнительных акцентов. А она, в свою очередь, собрала этот материал так, что он стал чем-то цельным, законченным. И мне очень понравилось, как она это сделала — это было по-настоящему здорово.
С архивами ситуация была схожей: я говорила, что не хочу их использовать, но если уж они окажутся в фильме, то только фрагментарно, аккуратно, не перегружая. И вот пришла мысль: давайте внедрим их, но так, чтобы они оставались фрагментарными, не бросались в глаза. Когда я увидела, как Айдан это собрала, я поняла — вот, это точно то, что я имела в виду. И такие моменты, когда всё складывается в одно, это и есть то, что делает работу по-настоящему уникальной.
А.П.: Это действительно невероятно сложный звукозрительный монтаж, я бы даже сказала, что это скорее музыкально-звуковой монтаж, где всё работает на смысл и драматургию. Работа со звуком и музыкой просто колоссальная. Но сейчас у меня больше вопрос к Бану. Я правильно понимаю, что Куаныш снимал документальный фильм “Ледник” Ядыкара Ибраимова?
Бану Рамазанова: Он снимал мою документалку. Уже давно работает со мной, и, кстати, он снимал и «Преодолевая барьеры» (прим. документальный фильм Бану Рамазановой). Но вообще, он — не тот тип, который сразу схватывает момент и бежит за ним, как я. Я же такой голливудский режиссер, всегда в поиске быстрого решения (смеется). А он… Мне нравится, что он умеет подождать кадра. Он видит, что момент придёт к нужной точке, и не торопится. И вот где-то в середине проекта я полностью ему доверилась. Я знала, что он снимет так, как нам нужно. А в монтаже это всё проявилось. Поэтому его часто приглашают на документальные проекты, например, Ядыкар. Когда мы собирали команду для этого фильма, я не могла думать ни о ком другом в роли оператора-постановщика. То же самое со звукорежиссером: я не искала никого. Это сразу был Илья Гариев, с которым мы тоже работаем давно. Мы сразу решили, что они оба будут в команде.
А вот композитора я долго подбирала, это был процесс. В итоге, мы выбрали Акмарал Мерген — она писала музыку для “КАШ” Айсултана Сеитова, и сейчас готовит альбом. Мы подбирались к ней издалека. И вот так, постепенно начали работать. Когда эти пять человек собрались, стало понятно, что никто другой нам не нужен. Мы с Ильей и Куанышем давно друзья, и в командировке мы уже знали, что ни один другой человек не смог бы вытерпеть те условия, в которых мы работали. Мы спали прямо на полу, ели сухпай, жили на полигоне. Не каждый согласится на такие условия — многие бы испугались. Но эти люди могли бы, они бы справились. Мы понимали, что работа будет тяжелой, и именно такие люди могут пройти этот марафон, не сдаваться.
А.П.: Да, это действительно марафонная история. А когда вы встретились (когда начали развивать идею) вы уже пришли к пониманию, что этот фильм не должен быть расследованием, не должен фокусироваться на проблеме в классическом её понимании, или вы постепенно пришли к этому вместе, в процессе работы?
Ж.К.: Честно говоря, я вообще не сразу пришла к пониманию того, что это должно быть. Когда мы с Владом начали работать, я отправляла ему свои идеи, свои мысли, но тогда у меня ещё не было героя — только тема и мои чувства, связанные с ней. Это был такой долгий процесс. Потом Влад сказал мне: «Тебе нужно найти казахстанского продюсера». В тот момент я как раз пришла на премьеру фильма Асии Махтаевны (прим. Байгожиной — известного казахского режиссера-документалиста), там была и Бану. Я сидела вся загруженная, и говорю ей: «Мне нужно найти продюсера, что делать?» Я была вся в раздумьях. А она и говорит: «Какой еще продюсер? Я — продюсер!» И говорит: «Давай я буду!» Ну, я в тот момент вообще не знала, что продюсеров так ищут — без всяких долгих разговоров, просто так. Это было довольно забавно, если честно.
А потом, на самом деле, мы долго приходили к пониманию того, как должна быть выстроена история. Я думала то так, то сяк, в какой-то момент всё перепробовала…
Б.Р.: Мне кажется, нам еще помогли лаборатории.
Ж.К.: Да, очень помогли. Особенно крайняя все расставила по полочкам — DocMonde.
Б.Р.: Мне кажется, что когда мы ездили в Гуанчжоу, там была особая визуальность, словно мы попали в другой мир. Я говорю: «Нам нужны именно такие кадры, понимаешь? Если это выйдет на большой экран, вот это будет то, что нужно… Да, именно в кинотеатре!» И я в этот момент чувствовала, что это именно тот визуальный язык, который нам нужен.
Ж.К.: В принципе, да, у нас уже в трейлере были заложены определенные кадры. И это их зацепило.
А.П.: Мне кажется, что, несмотря на все различия, мы все находимся в едином пространстве. Я вспомнила, как начала смотреть в фильме на землю — просто как на землю, снятую сверху. И тут мне пришла в голову мысль, что это как в фильме Ядыкара «Ледник». Я подумала, как здорово это перекликается, как некая волна интереса к теме земли, которая сегодня становится важной на глобальном уровне, на уровне планетарном, национальном и человеческом. Это ощущение, что земля — это не просто что-то, что мы используем, а нечто более глубокое, к чему нужно относиться с уважением. И вот, мне кажется, что в кинематографическом плане это особая тема, которая дает возможность погрузиться в саму сущность земли, и, наверное, в этом есть что-то традиционное, что-то очень мощное.
Это тоже то, о чём я говорю, когда вспоминаю фильм «Атамекен» (“Земля отцов”) Шакена Айманова. Помните тот кадр, когда мальчик будто бы погружается в родник? Это настолько красиво, поэтично и пронзительно. Так вот, когда я вижу землю в вашем фильме, это не менее поэтично и пронзительно, и вновь возникает мысль о родной земле. Ты видишь, что происходит с твоей родной землей, и это объединяет фильмы, хотя они и разные. Важно то, что современные казахстанские режиссеры-документалисты, говорят о том, что происходит здесь и сейчас, не убегая в какое-то эфемерное пространство прошлого. Я не говорю о каком-то “определённом типе фильмов”, а о настоящем документальном кино. Это, на мой взгляд, уникальная тенденция, какое-то новое направление, которое я чувствую, вижу, замечаю.
И, несмотря на всю жестокую реальность и “страшность”, которая есть в фильме, мне, честно говоря, он даёт надежду. Я повторяю это, потому что верю: если люди его увидят, что-то в них может измениться. Какой-то «тумблер» щёлкнет. По крайней мере, они испытают опыт, который будет для них как прививка. Возможно и надеюсь, мы никогда не почувствуем этого на своей шкуре, потому что мы все живем в комфортных условиях, каждый своей жизнью. Но этот важный трансцендентальный опыт, думаю, мы получим.
И вот для тебя, Бану, как продюсера и, конечно, как человека, есть ли какие-то надежды, которые ты связываешь с этим фильмом? Какие-то ожидания, связанные с тем, что он может изменить?
Б.Р.: Как продюсер, я ставила задачу, которая, кажется, была просто колоссальной для Жананы. Нам нужен был прецедент в документальном кино. Я говорила ей: «Жанана, мы должны стать теми, кто покажет, что документалистика может быть красивой, интересной, достойной больших экранов». Я это говорила, но не совсем ощущала на себе всю тяжесть этой ответственности. Мне кажется, Жанана больше, чем я, чувствовала этот груз. В конечном итоге многое зависело от режиссуры. Ожидания от фильма были огромные. Но когда уже на монтаже видишь, что он действительно получается, понимаешь — мы не ошиблись. Он был создан для больших экранов. Может быть, мы и не выйдем в широкий кинопрокат, но, возможно, будет какой-то лимитированный выпуск. Где-то в голове у меня есть идея — например, 29 августа провести показ в Семипалатинске. Это важно для тех людей, для которых этот фильм был создан. Если это начнет двигаться, если на фильм обратят внимание, если он станет важным в Казахстане, то и в глобальном контексте это может изменить отношение к документальному кино в нашей стране. Мы нуждаемся в таких больших фильмах, которые могут не только что-то сказать, но и что-то изменить. Но для этого нужно время, нужно финансирование.
Мне бы хотелось, чтобы этот фильм стал прецедентом. И, кстати, мне очень нравится, что в современной документалистике Казахстана сейчас есть Алина Мустафина, Саша Шегай, Виктория Шегай, Катя Суворова. Это круто — когда видишь, что есть движ, что нас что-то объединяет. Ощущение, что да, это “Girl Power”, которая двигает документальное кино вперёд. И мне очень нравится это чувство. Я думаю, что фильм что-то сдвинет. У меня есть большая надежда на него. И если он «выстрелит» с точки зрения продаж, я буду рада. Это будет доказательством тому, что документальное кино может приносить деньги, что нужно поддерживать нормальные команды и хорошие проекты, потому что это работает.
Я хочу доказать всем тем, кто сомневается, что мы способны на что-то большее. Это правда.
В глобальном, гражданском и человеческом смысле этот фильм может реально повлиять на общество. Но для этого необходим отдельный подход, особенно в части импакт-продюсирования — это отдельный бюджет, отдельная стратегия. Нужно показывать фильм в парламентах, в НКО, это вообще отдельный процесс. Да, сейчас в этом направлении нам не хватает стратегии. Я ещё не до конца её выработала. Это требует разработки целого маркетингового плана, как, например, с фильмом про Навального. Я бы хотела, чтобы этот фильм повлиял на жизнь людей, которых мы снимали, на жизнь героев. Мы с ними сроднились, сдружились. Если Инкар (прим. — дочь героев фильма) сможет получить лечение, если её болезнь попадет в нужный список, и если мы сможем как-то повлиять на ее судьбу — это будет победа. Это будет идеальный результат.
Ж.К.: Мои надежды связаны с тем, чтобы были ограждены те участки, которые необходимо защитить. Это — основная проблема, и мне кажется, она до сих пор не до конца понята. На самом деле, всё упирается именно в это. Если решим эту проблему, многое другое автоматически станет гораздо проще. Это первое.
Второе: понятно, что не всё можно исправить. Эти люди уже заболели. Но всё же, можно им помочь, предоставить поддержку. У этой семьи, которую мы снимали, такая поддержка уже есть. И нужно признать, что в этом есть заслуга нашего государства: они получают лечение за его счёт, ездят в Астану, получают лекарства. Всё это — результат работы, и это стоит признать. Не в каждом государстве мира есть такая система. Конечно, всегда есть куда стремиться, и я думаю, что нужно продолжать работать в этом направлении. Этой группе людей уже уделяется внимание, этот регион наконец-то отделили и образовали отдельную область, и это — шаг вперёд. Но важно продолжать действовать: улучшить питание, повысить уровень жизни, строить больницы, не заставлять людей стоять в очередях, обследовать их регулярно.
С другой стороны, у жителей есть некая позиция жертвы, и я понимаю это. Я не собираюсь их оправдывать, но, согласитесь, людей приучили к такому восприятию себя. Поэтому, мне кажется, что на фундаментальном уровне нужно решать вопросы. В первую очередь — информирование. Если не объяснять людям, не проводить разъяснительные работы, не говорить, что причина и следствие — это разные вещи, то ничего не изменится. А если государственные органы или министерства обижаются на нас за критику, то, как говорится, уберите проблемы, и всё встанет на свои места. Устраните проблемы, и не будет никаких разговоров.
Нужно построить медицинские учреждения, создать дополнительные возможности для диагностики и лечения. И это нужно делать быстрее, а не по чайной ложке, как сейчас. Надеюсь, что это всё будет сделано. Может быть, не благодаря нашему фильму, но движение в эту сторону уже есть, и оно продолжится. Ведь есть и другие люди, которые занимаются этой темой много лет.
А ещё одна наша проблема — слабое гражданское общество. У нас нет активизма, нет должной гражданской вовлеченности. Я это понимаю, чувствую по себе и надеюсь, что ситуация изменится.
Б.Р.: И я надеюсь…
А.П.: Когда я думаю о надеждах, мне сразу в голову приходят и другие размышления, связанные с гражданским обществом. После того, как я увидела ваш фильм, я подумала, что в документальном кино у нас сейчас происходит что-то очень интересное. Это не просто фильм — это некий процесс, который фиксирует изменения, происходящие в обществе. Мы видим, как начинается движение, как возникают новые идеи и формы взаимодействия, и этот фильм как раз отражает этот процесс.
Но есть в картине и моменты, которые меня пугают. Когда один из героев — эколог — говорит: «Иногда мы думаем, что было бы хорошо, если бы у нас было ядерное оружие», — это, конечно, страшно. Это звучит как некое подтверждение паранойи, в которой мы все живём. И речь здесь не столько о Казахстане, сколько о человечестве в целом. Мы все живём в мире, где не знаем, откуда и когда прилетит ракета, что нас ждёт завтра. И эта фраза напоминает нам, что в каждом из нас есть этот внутренний страх, который должен, по-хорошему, заставить нас менять что-то в своей жизни, искать пути выхода из этой неопределенности.
Мне кажется, ты, Жанана, столкнулась с этим страхом тоже, когда работала над фильмом. Это тяжелое переживание, и я хочу спросить тебя: какой самый сильный страх ты испытала в процессе работы? Что тебя по-настоящему потрясло?
Ж.К.: У меня неизменно было ощущение боли и уязвимости на протяжении всей работы. И это меня пугало. Для меня этот фильм прежде всего об уязвимости. Это было в приоритете. Я размышляла долго, пытаясь понять, почему я выбрала именно этих героев, что меня в них привлекло. И вот, среди всех этих размышлений, я осознала, что в этих людях есть нечто такое, чему я научилась у них.
Для меня фильм изначально был про тщетность. Знаешь, такое чувство, что всё бессмысленно, всё как будто застряло. Герои находятся в каком-то замкнутом круге, в бесконечном цикле, не могут выбраться из него; мы все застряли вместе с ними. Человечество застряло в тупике. Мы пытаемся двигаться вперёд, но это всё безрезультатно. Нет пути назад, и распутать этот клубок ошибок уже невозможно. Но потом я поняла — в этой борьбе и заключается смысл. Это как в интервью с Орсоном Уэллсом, когда его спросили, почему фильм “Процесс” по Кафке заканчивается так, что герой не умирает как собака, а пытается еще что-то сказать перед смертью. А Уэллс ответил, что Кафка писал до Освенцима, а он — после. И он не имел права оставить героя без надежды. Он добавил, что если человек не видит смысла, то он просто обязан бороться. Эта фраза поразила меня до глубины души. Я поняла, что в борьбе и есть смысл жизни. Если ты остановишься, это равнозначно смерти. Это как если ты сдаешься — просто ложись и закрывай крышку гроба. Всё, ты покончил с собой. А бороться нужно, идти дальше, несмотря ни на что. И вот это для меня было открытием — в этом и заключается смысл существования.
А.П.: То есть борьба — есть надежда.
Ж.К.: Да, смысл этой борьбы — в самой борьбе. Возможно, ты никогда не станешь тем, кем мечтаешь, но хотя бы ты что-то сделал. По крайней мере, ты попробовал. Я, кстати, тоже спорила с международными менторами. Они говорили мне: «Зачем вы об этом? Про ядерное оружие? Это не нужно. Это может напугать людей, создать впечатление, что вы пропагандируете, чтобы все это снова случилось». А ещё им не понравилась сцена с экскурсией в музее — “она слишком информативная, слишком откровенная”. Я им отвечала: «Спасибо за ваше мнение, но когда дети начинают спрашивать о ядерных державах, что это значит? Это о чём-то говорит, не так ли? Это говорит о том, в каком мире мы живём. Даже дети об этом думают. Это значит, что мы достигли такого уровня, когда дальше уже некуда”. И если даже эколог, который по сути должен быть на стороне природы и безопасности, даже он… Я размышляю о том, насколько мы уязвимы, насколько мы боимся. Мы осознаем, что без «ножа за спиной» не справимся, нас просто растопчут. Мы понимаем это, и вот в этом наша уязвимость.
И вот этот мужчина в нашем патриархальном офисе… Я не о феминизме, не о том, чтобы осуждать или идеализировать, но для меня всё-таки существует образ сильного мужчины, отца, того, кто несет ответственность. Я его действительно уважаю — не обожествляю, а именно уважаю. Когда я вижу, что этот человек, на которого возложены все надежды, не справляется, мне просто хочется рыдать. Это ведь снова об уязвимости. Он понимает, что всё это не в его руках, что он ничего не может изменить. И, тем не менее, он продолжает идти вперёд, делает то, что может — и всё.
А.П.: Как я уже говорила об архивных материалах, мне особенно понравилось, как всё было подано на уровне звуков, на уровне коротких вспышек, мимолетных образов. Это было невероятно мощно. Ведь зачастую все эти спекуляции и интерпретации оказывались более значимыми, чем прямое повествование. Спасибо большое за это. Это действительно потрясающе и точно.
Здесь уже не важно, войдёт ли это в фильм, но сам факт, что ты можешь передать нечто большее, чем просто информацию, — это уже ценно. Это как некая деформация восприятия после того, как мы посмотрели слишком много спекулятивного кино, где все приемы давно известны, и ты заранее знаешь, чего ожидать. К примеру, если вспомнить фильмы о Неваде, или сцены с «семьями» в кино — всё это как по шаблону, яркое, впечатляющее, но на грани шаблонности. А тут фильм создаёт эффект «по башке», будто тебя ударили жестким изображением. Однако в твоём случае это даже больше напоминает подход, скорее, трансовый. Это как объятие пространства, которое, на самом деле, оставляет тебя в ступоре. И это — по-хорошему.
Ж.К.: У Айдан действительно хорошее чувство ритма, это музыкальное прошлое, конечно, — не знаю, насколько это актуально сейчас, но музыка точно присутствует в её жизни. Она это ощущает, и, честно говоря, это очень здорово. Это чувствуется в каждой детали. И вот этот звуковой и визуальный ритм — это что-то особенное. Мне кажется, именно здесь нам очень повезло. Ритм, который передаёт чувство динамики, — просто отличный.
Б.Р.: Что касается рисунка фильма, он очень размеренный, и при этом в нём нет этой навязчивой, жёсткой проблематики, на которой можно было бы спекулировать, чтобы легко продать картину. Я имею в виду — продать на фестивале, сделать акцент на каких-то острых, трендовых темах, что часто используется для привлечения внимания. Но мне кажется, фестивали уже отходят от этого. Похоже, все устали от хайпа, трендовости и конъюнктурных тем. Конечно, какие-то темы в фильме есть, но в целом — это более цельная работа, как полотно, а не набор штампов.
И если мы смогли почувствовать это на экранах 13 и 15 дюймов, то я просто мечтаю, чтобы фильм вышел в кинотеатры. Представляешь, как это будет — сидеть в зале с отличной акустикой и слышать все те мелкие детали, которые Илья и Акмарал вложили в звук и изображение. Это было бы просто потрясающе. Если нам удалось достичь этого эффекта на обычных мониторах, то в кинотеатре это будет настоящий взрыв!
P.S. После, уже за рамками записи, мы еще говорили, и говорили о многом — наболевшем личном, профессиональном. Но как в самой кинодокументалистике, как в документалистике на бумаге, пусть всегда что-то остается за кадром. И в этом будет надежда на продолжение.
Интервьюер: Александра Поршнева